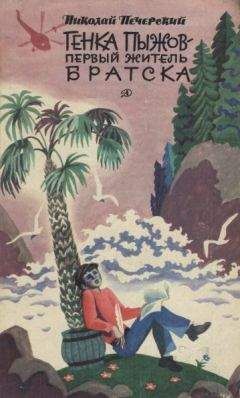— Ты тут пиши, а я пишла. Нехай трактористы чесночку погрызуть. Там же таки в мене гарни хлопчики… Ты ж тут дывысь, Ванята, хозяйнуй…
Вышла из дома степенной осанистой походкой. За плетнем украдкой поглядела вокруг и припустила под горку мелкой торопливой рысцой.
Ванята закончил письмо, сделал самодельный конверт-треугольник и вышел на крыльцо. Почтовый ящик был недалеко, висел посреди улицы на старом, с оборванными проводами столбе.
Он опустил письмо и снова пошел домой. Солнце тянуло к вечеру. В небе зарумянилось киноварью летучее облачко. От реки, не нарушая строя, шли сытые, довольные судьбой гуси.
Скоро вернется со своей работы мать. Ванята согрел для рукомойника воды, вынул из шкафчика миски и ложки, нарезал от каравая ломтики хлеба.
Потом он решил сделать матери сюрприз. Вытащил из чемодана портрет отца и повесил его в комнате на видном месте. Тут сразу стало теплее и уютнее, запахло своим, родным домом. Ванята глядел на портрет отца и размышлял, как ему теперь вести себя и стоит ли намекнуть матери о своем разговоре с правнуком деда Егора. Впервые по-настоящему пожалел он, что нет рядом друга и собеседника. От таких бесконечных дум не трудно спятить или вообще забыть свой собственный голос.
Ванята побродил по избе, а потом представил на миг, будто бы он тут не один, а рядом с ним — верный и бесценный друг Гриша Самохин. Ванята посмотрел на мнимого Гришу, сделал печальное лицо и, стесняясь самого себя, сказал ему для начала:
«Вот, Гриша, какие у меня дела. Понимаешь?»
«А чего понимать? Все нормально!» — ответил Гриша.
«Разве это нормально! — возмутился Ванята. — Не знаешь, а говоришь…»
«Зря паникуешь, — спокойно и убежденно ответил Гриша. — А Сашка Трунов — дурак. Я из твоего письма сразу все понял».
«Это верно, что дурак, — согласился Ванята. — Я тоже так думаю…»
«Чего ж тогда мучаешься?»
«Все-таки… Прокурору, говорит, отец его про нас написал».
«Пускай пишет. А только лично я твоему Сашке ни капли не верю. Сначала щеку себе перевязал, потом отцу про тебя набрехал. Ты ж не бил его?»
«Пока нет. Толкнул только…»
«Эх, ты! — сказал Гриша. — Даже постоять за себя не можешь! Я бы этого Сашку в порошок! Понял?»
«Тебе хорошо говорить! Я ж тут новый. Только приехал…»
«Ну и что? А если тебя в космос пошлют — на Венеру. Тогда как?»
«Полечу. Чего мне…»
«Полетишь?! Знаю я тебя, мочалу! Там знаешь как надо, на Венере?»
«Скажи, раз ты такой умный!»
«Там надо вот как… смотри как!»
Незримый Гриша Самохин вытянулся в струнку, вскинул ладонь к виску и сказал:
«Там надо вот так: „Привет, граждане Венеры! Я из СССР!“ Понял?»
«Ну, понял…»
«Ничего ты не понял! Только туман напускаешь. Когда уж человеком сделаешься?»
«Сделаюсь. Я ж тебе сказал…»
«Ну, скорей делайся! А то ждать уже надоело…»
Друзья помолчали. Ванята собрался с мыслями и снова напомнил Грише:
«Ты, Гриша, все-таки посоветуй, что мне делать с этой историей? Ты ж друг. Я твой крючок всегда помнить буду!»
«А что делать! Я тебе сказал: плюнь и разотри».
«Не говорить, значит, матери про Сашкину болтовню?»
«Спрашиваешь! Молчи, и все. Мало что лопух этот придумает! Если хочешь, я сам все в нашем колхозе узнаю и напишу тебе. Ладно?»
Ванята не успел ответить верному и суровому другу, попросить, чтобы он поскорее написал письмо. Хлопнула дверь, и на пороге появилась мать. Сбросила белую косынку, поправила сбившиеся на лоб волосы и сказала:
— Здравствуй, Ванята. Я тебя сегодня еще не видела.
— Здравствуй, мам!
— Кормить станешь?
— Ага. Уже разогрел борщ.
Ванята смотрел на мать. Она ему нравилась. Впрочем, не только ему. В деревне ее называли красавицей. Ванята видел красавиц только в «Огоньке». Пышные дамы в строгих платьях, с блестящими сережками в ушах, особого впечатления на него не производили. Мать его была совсем иной. У нее смуглое продолговатое лицо, чуть-чуть вздернутый тонкий нос и черные непроглядные глаза. Если даже внимательно посмотреть в них, все равно не увидишь зрачков.
На плече у матери густая, золотистая, как вязка лука, коса. Над этой косой и вообще над всей головой бежало легкое, пышное пламя тонких курчавых волос.
Дед Антоний, с которым Ванята ездил на ферму, называл мать курносой. Мать сердилась, но Ванята догадывался — ей приятно. Кому не приятно, когда посторонние люди говорят вот так…
Мать прошлась по комнате и заметила на стене портрет отца. От ресниц ее пали на щеку густые синие тени. Тоненькие губы ее вздрогнули и поджались, будто увидела она что-то неприятное и обидное.
— Зачем это? — спросила она Ваняту. — Мы же в чужом доме…
— А пускай, — деланно рассмеялся Ванята. — Тетка ничего не скажет. Она добрая.
Мать подошла к стене, сняла портрет, задумчиво вытерла стекло рукой и подала Ваняте.
— Спрячь! Будет своя изба, тогда… Не надо, Ванята…
Мать пошла в сенцы, долго гремела там медной непослушной шляпкой рукомойника. Вернулась она с полотенцем на плече. Уголки глаз, там, где прижались тонкие морщинки, влажно поблескивали.
Ужинали Пузыревы молча. В тишине избы глухо стучали о края мисок деревянные ложки. Тикали часы, разделяя на кусочки бегущее вперед время. Ваняте было обидно и грустно. Он думал о матери, портрете отца, который сняла она со стены, о странных порядках и условностях, подстерегающих человека в чужом доме.
Ну кому он помешает, этот портрет!
Портрет всегда, всю жизнь, висел перед глазами Ваняты. С ним был связан для Ваняты близкий доступный образ отца. Где-то в уголочке памяти Ваняты засела вкрадчивая надежда: ему казалось, будто отец его живой, и в одночасье придет к ним домой.
Разве мало бывает неожиданных случаев. Может быть, отец выбрался из тайги. Долго лежал на поляне, окунал красное, с обгоревшими бровями лицо в ручей. Потом поднялся и поковылял по дороге. Попутная машина подобрала путника, отвезла в больницу. Отца вылечили. На лице его остались страшные рубчатые шрамы. Он посмотрел перед уходом из больницы в зеркало и сразу же закрыл глаза. Он не хотел возвращаться домой вот таким изуродованным и остался навсегда в Сибири. Вспоминал мать, Ваняту и тихо шептал: «Не поеду, не могу я…»
Но дороги, как бы далеко ни разбегались они по белу свету, все равно приводят человека к родному порогу. Вернется и Ванятин отец. Откроет дверь, поглядит на мать, на Ваняту, на свой портрет возле окна и сразу расцветет.
«Молодцы, Пузыревы! — скажет он. — Значит, не ошибся я. Спасибо вам и, пожалуйста, простите. Виноват я…»
Ванята подождал, пока мать доест борщ, по-хозяйски собрал миски, бросил туда корки хлеба, ложки и только тогда спросил:
— Приходили на меня жаловаться?
— Ну, приходили…
— И ты что — поверила?
— А то я не знаю тебя. Дня без драки прожить не можешь. Такого там сраму набралась!
— Так он же первый! Я разве хотел?
— Ну тебя! Так на тебя рассерчала! Думала, приду домой и вздую, чтобы знал… Потом уже парторг рассоветовал. Сам, сказал, поговорит. Чего ты сцепился с Сашкой этим?
— Так просто… я ничего, а он…
— Молчи уж лучше! У всех дети как дети. Ты только… Как горох, от тебя все отскакивает.
Мать устало провела рукой по лицу, подняла глаза на Ваняту.
— Можешь ты хоть раз вникнуть или не можешь?
— Конечно, я всегда…
— Не дерись ты с ребятами. Будь человеком! Обещаешь, что ли?
— Так я ж не дрался! Я тебе все объяснил…
Мать махнула рукой, поднялась из-за стола.
— Что с тобой говорить? Дикий ты человек! Давай лучше спать. Ноги уже не носят.
Ванята разделся и полез под одеяло. Лежал, прислушивался к ночным шорохам и ждал, когда мать снова заговорит с ним, спросит о чем-нибудь или сама расскажет о своей ферме или о том, что сулит им теперь жизнь в Козюркине.
Мать выключила свет, и комната спряталась в темноту. Прошло немного времени, и Ванята заметил в черной глухой пустоте крохотную золотую искринку. Она бегала взад-вперед над материной кроватью, тихо и вкрадчиво тикала. Это тайком от всех раскачивалась на маятнике заглянувшая в окно вечерняя звезда.
— Как там на ферме? — не вытерпел наконец Ванята.
Мать вздохнула.
— Запустил все Трунов этот. Телята худющие, грязные… Мне самую плохую группу дали. Прямо страх!
— Зачем же ты взяла?
— Кому ж их? Все одно выхаживать. Телочка там одна! В дождь простыла. Кашляет и кашляет. Так уж ее жаль! Бусинкой зовут…
— Ты ее, что ли, так назвала?
Мать промолчала. Но Ванята догадался — кличку теленку дала мать. В прежнем их селе тоже так было — коровам и бычкам давали вначале скучные, серые клички. Были там и Лысухи, и Маньки, и Рябухи, и Брухатки, и даже легкомысленный одноглазый бык Прогресс.
![Николай Печерский - Важный разговор [Повести, рассказы]](https://cdn.my-library.info/books/205932/205932.jpg)